В истории русской эмиграции последних ста лет трагедии и фарсы оказались перемешаны в как минимум пяти актах такой лихой драматургии, которой позавидовал бы сам Шекспир.
Все события и личности появляются в истории дважды: первый раз – в виде трагедии, второй раз – в виде фарса. Так сказал Карл Маркс, цитируя Гегеля. Однако наши люди, как обычно, превзошли самые смелые пророчества немецких философов.
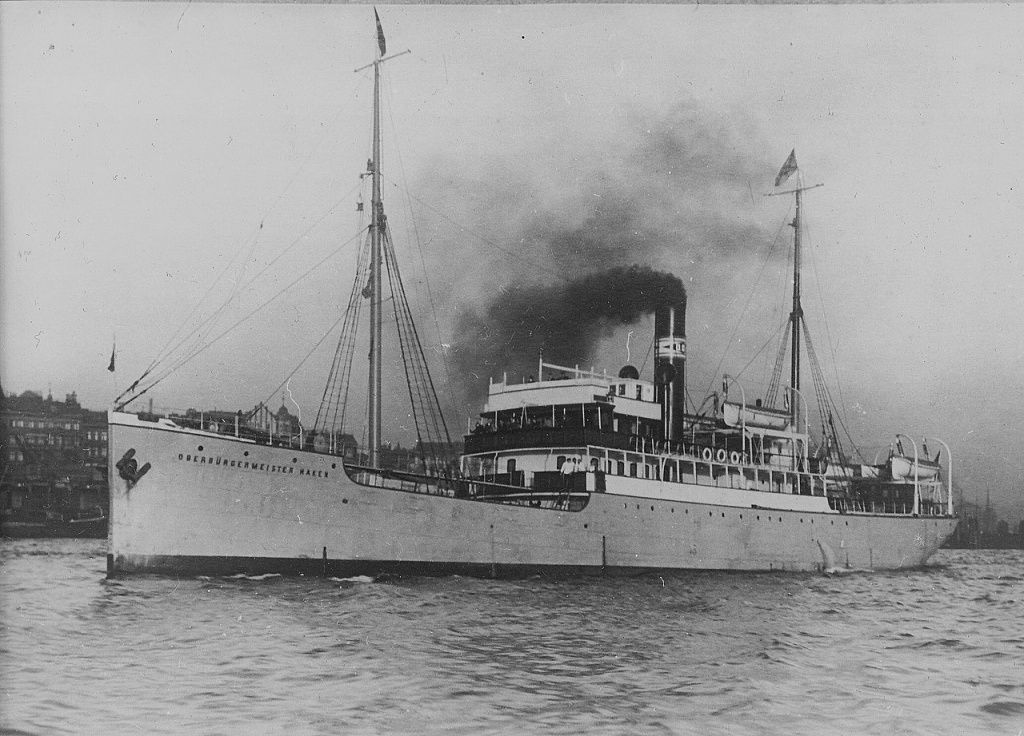
Первая волна эмиграции, случившаяся после прихода к власти большевиков, была, без сомнения, колоссальной, античного масштаба трагедией. Это понимали даже победители – посмотрите хотя бы фильмы «Бег» или «Служили два товарища», снятые на эту тему ещё на рубеже 1970-х.
Как говорил один из белых эмигрантов, бывший член Государственной думы Н. Н. Львов, «помещичий быт был очагом просвещения и прогресса среди моря невежества, грубости и отсталости, в которые была погружена остальная Россия, составляющая девяносто процентов всего населения…».

Обанкротившаяся династия Романовых, ввязав страну в необязательную войну и не сумев предотвратить революцию, утащила с собой и всё плохое, и всё хорошее. В бездну гражданской войны полетел не только «праздный класс» аристократов, но и сама империя, которая должна была стать «новой Америкой», самой благополучной страной в мире в двадцатом веке.
Но не стала: из России уехали Бунин и Шаляпин, Сикорский и Дягилев, Рахманинов и Зворыкин, Алехин и Набоков, Прокудин-Горский и Бродович. Вдумайтесь: если даже те военные, учёные, инженеры, кто остались (а таких тоже было немало), сделали СССР сверхдержавой, что было бы, если бы остались все?!
Вынужденные покинуть умытую кровью Россию (вспомним хотя бы жуткий красный террор, устроенный зимой 1921 года в Крыму Белой Куном), эмигранты первой волны не находили себе места, страшно скучали по Родине.
Князь А. Д. Голицын, земский политик, член 3-й Государственной думы, ставший одним из организаторов Союза русских дворян в изгнании, с тоской писал в Париже в 30-х:
«[В России] решительно всё – было гораздо ярче, сильнее, определённее. Возьмите, например, хотя бы здешние цветы. Разве можно их равнять по запаху с нашими? А разве можно равнять по силе запаха и яркости цветов нашу сирень со здешнею чахлой, бледной пародией на сирень? Нет. А разве можно равнять пение нашего соловья, даже не курского, со здешним?! Какая это слабая пародия. Вообще, должен сказать, все птицы в Европе какие-то безголосые».
А писатель Николай Станюкович вспоминает, с каким щемящим чувством в эмигрантской колонии Ла-Фавьер под Сен-Тропе, созданной русскими парижанами от ностальгии по утраченным крымским дачам, каждый день поднимали над «русским холмом» имперский флаг.

Когда началась война с Гитлером, почти все эмигранты первой волны выступили на стороне Родины. Многие – от Горького и Толстого до писателя Куприна, художника Билибина, шансонье Вертинского, архитектора Жолтовского, генерала Слащева – вернулись в советскую Россию. Стало популярным движение «сменовеховцев», которые утверждали: надо признать, что большевики действуют в исторических интересах России.
Те же, кто вместе с немцами всё-таки воевал под знамёнами Власова, а потом предпочёл сбежать в американскую зону оккупации, составили так называемую вторую волну эмиграции. Имена этих деятелей ещё памятны тем, кто слушал западные «радиоголоса»: они рьяно вещали против СССР.
И это, разумеется, тоже была трагедия – но уже скорее не национального, а личного, человеческого масштаба.
Вдумайтесь, каково это – быть русским и при этом получать доллары и дойчмарки от тех, кто хочет уничтожить Россию ядерными бомбардировками? Я знаком с некоторыми потомками этих людей: они и сегодня как будто всё время извиняются, даже если молчат...

Третью волну, случившуюся в семидесятых, принято отождествлять с еврейской эмиграцией. Уезжали подчас не без скандала – но в целом мирно и с согласия власти, нравы смягчились, никаким террором уже не пахло. В отличие от непрактичных белогвардейцев, деятели третьей волны были, как правило, людьми находчивыми, в меру циничными и худо-бедно находили себя в новой жизни, пусть и не такой радужной, как виделось им из Москвы, где они, кстати, по сравнению с общей массой населения тоже жили неплохо.
Успешный в Советском Союзе певец Вилли Токарев, ставший в Нью-Йорке водителем такси, пел: «И брожу я одиноко, впереди большой Бродвей. Кто-то ездит на роллс-ройсах, я же прыгаю в сабвей.
Очень часто, очень часто задаю себе вопрос: для чего, не понимаю, чёрт меня сюда принёс?» Первая концертная программа Токарева после возвращения называлась «Как я стал богатый сэр и приехал в СССР» — это была, конечно, насмешка над наивной американской мечтой.

Впрочем, третья волна – это не только Брайтон-Бич и смех сквозь слёзы. Были и драмы. Высылка Солженицына, «прыжок в свободу» грустного Рудольфа Нуреева, изгнание из России двух, как теперь ясно, последних больших русских писателей «серебряного века» – Юрия Мамлеева и Эдуарда Лимонова.
На Западе всем им было тяжело, душно, неуютно. Лимонов рассказывал мне, как однажды, на каком-то из вечеров русской литературы в Америке в начале восьмидесятых, Мамлеев тихо подкрался к нему и прошептал, чуть не плача: «Эдик! А Россия-то наша жива!» Оба вернулись, как только представилась возможность, и стали наперебой рассказывать наивным советским людям, что Запад – это совсем не то, что они думают, не сладкий запретный рай, а, скорее, форменный ад. Лишь теперь, к 2022-му, мы наконец-то поняли, что имели в виду эти умные, проницательные люди...

Четвёртую волну эмиграции, помчавшуюся в «рай» после открытия границ в годы перестройки, принято издевательски называть «колбасной». Но не будем так уж грешить на этих людей: в конце 80-х на родине настали тёмные, апокалиптические времена.
Уезжали учёные, оставшиеся без гроша, интеллигенты, испугавшиеся разгула бандитизма и бесправия, весёлые авантюристы, увидевшие возможности наживы при падении старого мира, умыкнувшие золото партии солдаты рухнувшей империи.
Помню, как укатила куда-то в Аризону с похотливым преподавателем английского моя несовершеннолетняя одноклассница, быстро выскочили замуж за жуликоватых заокеанских бизнесменов две другие – блондинистые дочки партийных бонз, а ещё одна, умница и отличница в очках, перебралась с семьёй в Хайфу: лучше саддамовские ракеты, говорили её родители, чем подмосковные рэкетмены.

Человек слаб, нельзя требовать от каждого, чтобы он, словами Ахматовой, «был с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Тем более что на чужбине московские ферзи частенько оборачивались пешками. Однако была в начале девяностых и легендарная «третья смена» на радио «Свобода» в Мюнхене.
После одиннадцати вечера, когда редакция якобы закрывалась на ключ, отработавшие свои часы акулы пера и микрофона (имена многих из них всё ещё на слуху) из третьей и четвёртой волн эмиграции тихо возвращались к служебным факсам и международным телефонам, чтобы делать свои маленькие гешефты с Россией: выгодно продавать окорочка Буша, одноразовые шприцы и принтеры.

Получается, что «пацифисты-велосипедисты» на грузинской границе – это уже пятая волна? Или ядовитое эхо второй? А может, фрактальные протуберанцы третьей или четвёртой? Или перед нами вновь разворачивается большая драма, как в сцене прощания Высоцкого с конём в финале картины «Служили два товарища»? Решайте сами, дорогие читатели.
Даст ли нынешний исход новые «Тёмные аллеи» Бунина, нового «Эдичку» Лимонова или хотя бы новую песню – как у Вилли про небоскрёбы? Или выйдет как в другой его песне – «Эх, хвост, чешуя – не поймал я... ничего»? И не будет ли в итоге похоже всё это на финал «Золотого телёнка»: «Через десять минут на советский берег вышел странный человек без шапки и в одном сапоге.
Ни к кому не обращаясь, он громко сказал: – Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся...» — впрочем, перечитайте сами, не пожалеете.










